Жизненный закон искусства
Жизненный закон искусства
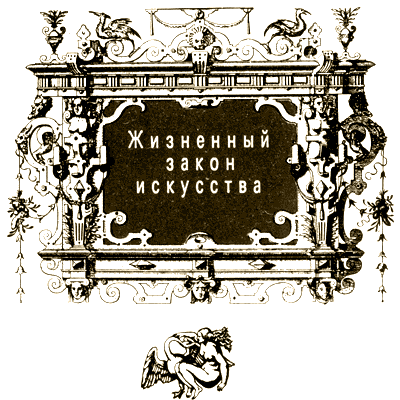
Считаем нужным повторить здесь вышеупомянутые вопросы, входящие в состав жизненного вопроса искусства: каково главное содержание искусства? Что преисполняет и воодушевляет его? В чем состоит его пламя? Каков тот элемент искусства, который не только электризует и воодушевляет современников, но и дарует поистине вечную жизнь внешней форме, в которую он облечен?
Мы дадим здесь сразу ответ на эти вопросы и лишь затем постараемся обосновать его. Наш ответ гласит: это главное содержание искусства, это пламя, этот элемент, короче говоря, сущность искусства есть чувственность. Искусство — это чувственность. И притом чувственность в наиболее потенцированной форме. Искусство есть чувственность, ставшая формой, ставшая конкретной, — и в то же время оно наивысшая и наиблагороднейшая форма чувственности. Для доказательства этого определения сущности искусства нам придется спуститься к первоисточникам жизни и исходить из них.
Первоисточником всего живого служит закон размножения, действующий во всех частях организованной материи. Биология называет закон размножения первичной функцией органической материи. Это вообще вечный закон жизни, ее основа и цель. «Голод и любовь» — гласит известная формула; однако в формуле этой логика перевернута отчасти вверх ногами, — она должна была бы гласить несколько иначе: «Любовь и голод». Размножение — это тенденция всякого живого существа; клетка проникнута стремлением к бесконечному делению. Это первичная тенденция; восстановиться, продолжать жить в более высокоорганизованной форме — такова тенденция и сознательное стремление живого существа, стоящего на высшей ступени органического развития, культурного человека. Лишь из стремления обладать силами для этого проистекает необходимость обмена веществ, дополнительного принятия питания, — необходимость топлива для машины. За справедливость этого говорит сама логика. Воспользуемся простым сравнением: цель и назначение машины не в самом потреблении топлива, а в том, чтобы это топливо, — скажем, уголь, превратилось в пар, в движение. Так как тенденция к размножению первичная и главнейшая функция органической материи, то у животного живого существа машина в ее примитивной форме развития служит аппаратом для восстановления израсходованной силы, и развитие у животного существа должно естественно и логично начинаться с желудка. Акалефа (медуза. — Ред.) — только желудок. Но прямой путь ведет от акалефы не только к человеку, но логическим образом и дальше по направлению к возвышенным идеологическим его превращениям. Все явления органического мира суть лишь части этой первичной функции и различаются только более или менее высокой ступенью своего развития.

Галантная читательница. Анонимный рисунок пером.
В число всех этих явлений входит и искусство: искусство есть часть этой первичной функции, оно — сама чувственность, и притом чувственность активная. Это одна и первая сторона того, что должно быть здесь доказано.
Сущность и содержание размножения образует на всех ступенях развития творческий мотив. Создавать новое — таков принцип, затаенная воля, которая на высших ступенях эволюционной лестницы превращается в волю сознательную. Истинно культурный человек исполняет закон жизни с полным сознанием; все его жизненные интересы суть в конечном счете не что иное, как стремление облагородить как внешние формы, так и последствия исполнения этого закона.

Дж. Морленд. Ночной визит. Английская гравюра.
Чисто механически действует этот закон только вначале, только на низших ступенях животного развития. Но если мы в настоящее время еще и не можем определить, где впервые переступается порог сознания, то все же мы безусловно способны подметить многочисленные излучения живой материи в ее внутреннем взаимодействии с этим законом жизни. Мы имеем возможность констатировать, что этому закону подчинены не только все физические элементы, но и весь комплекс психических завоеваний человека и, далее, что все они не только играют при этой силе как бы служебную роль, но и образуют сами составные части этой силы; они не что иное, как непосредственная эманация способности к продолжению рода, творческого элемента на более высокой ступени развития. Поэтому-то и высшая духовная эманация человеческой психики, искусство, не может быть ничем иным, как активной чувственностью и притом, естественно, высшей формой ее. Активность проявления чувственности и творческий элемент суть понятия, покрывающие всецело друг друга. Творческий элемент в искусстве есть поэтому проявление имманентного жизненного закона в его наивысшей форме. И там, где искусство соответствует этому, — и притом только там и только потому, — там оно действительно жизненно, ибо там оно кристаллизует единственно вечное, что есть вообще в мире: закон жизни, первичную силу, которая всегда меняет лишь внешние формы свои.
В пользу положения, что искусство не только играет при этой силе служебную роль, а что само оно образует составную часть этой силы, часть, которая развивается на определенной высоте органической эволюции, — в пользу этого положения имеется одно чрезвычайно простое доказательство. Доказательство сводится к тому факту, что каждое нарушение физической способности к продолжению рода всегда в равной мере ограничивает способность художественного творчества и что полное уничтожение первой приводит к полному отсутствию и последней. Доказательств этого факта можно привести очень много. И при этом не только из истории человечества: каждый естествоиспытатель мог бы привести из царства животных многочисленные примеры того, как проявления художественного творчества, которые совершаются тут бессознательно в целях выполнения могучего закона жизни, — вспомним хотя бы о развитии пения птиц в брачный период или о более пестрой и красивой наружности самцов, — исчезают или вообще отсутствуют, как только способность к размножению терпит какой-нибудь ущерб или вообще устраняется; эксперименты давно уже подтвердили это общее правило. Для нас, однако, достаточно хотя бы одного того указания, что в истории искусства нет ни одного истинного произведения творчества, которым мы были бы обязаны кастрату, или наоборот: нет ни одного истинного художника, который был бы кастратом. Кто захотел бы нам возразить, пусть назовет хоть одно такое произведение или хоть одного такого художника.
Из вышесказанного можно сделать два вывода. Один гласит: необходимое условие активности для наличия способности к художественному творчеству дает нам ключ к разрешению вопроса о том, почему женщина, на долю которой в осуществлении извечного закона жизни выпадает пассивная роль, почти совершенно лишена этой способности. Художественная деятельность женщины в общем сводится исключительно к подражанию. В истории искусств мы не знаем ни одной оригинальной композиторши, ни одной создательницы новой независимой философской системы, ни одной художницы с истинно самостоятельным творчеством. На это обычно возражают, что постоянное пренебрежение и порабощение женщины помешало ей развивать эти способности. Но это только пустая дешевая фраза. Дочери английской буржуазии уже очень и очень давно пользуются всеми возможностями духовного развития, — а где же английские женщины-гении? Сыны пролетариата всех стран были всегда угнетаемы, перед ними были закрыты все возможности духовного развития, и тем не менее из этих низших слоев общества вышли такие гигантские личности, как Спиноза, Гойя, Домье, Фихте и десятки других, равных им по значению. Другим выводом является положение, раскрывающееся перед нами при этом проникновении в глубь настоятельных необходимостей художественного творчества. Став на вышеохарактеризованную точку зрения, мы сами поймем, почему в силу внутренней необходимости нагое человеческое тело всегда служило наивысшей художественной проблемой и почему именно к нему сводятся все создания величайших представителей искусства всех времен и народов: Праксителя, Тициана, Микеланджело, Рубенса, Рембрандта и Родена. Этим же объясняется также и то, что в наиболее значительные эпохи художественного творчества искусство и воспроизведение человеческой наготы должны были быть синонимами. Сущность вопроса сводится к следующему: в воспроизведении нагого человеческого тела искусство наиболее полно осуществляет свой жизненный закон, ибо человек в своей телесной оболочке есть наиболее совершенный и полный представитель чувственного мира явлений, он есть чувственность в ее наиблагороднейшей форме…
Если первое положение, выставленное нами, гласило: искусство есть чувственность, то второе должно быть: искусство есть всегда не что иное, как воспроизведение чувственности.
Продолжение рода есть, как мы уже говорили, первичная функция органической материи. Эта первичная функция остается, однако, всегда и ее главнейшей и основной функцией, она есть наисущественнейший элемент всякого явления на всех без исключения стадиях развития. Все живое есть чувственность, принявшая конкретные формы, и критерием различия является лишь более или менее высокая ступень развития в цепи органической эволюции. Воспроизведение сущности жизни, безразлично, проявляется ли она в растении, животном или человеке, — таков внутренний смысл и цель искусства. И великая задача его сводится к возможно более полному и цельному исчерпанию содержания жизни. Жизнь в ее затаенных глубинах, внутренний процесс жизни должен воплотиться в изображаемых организмах, — линии, средства художественного воспроизведения стремятся и должны быть, в сущности, лишь оконкретизированным и внутренним процессом жизни.
В то время как искусство стремится выполнить это внутреннее назначение, само собой в качестве основной проблемы выдвигается на первый план то, что образует особый объект этой работы: художественное воплощение эротики. Эротика есть активная чувственность, она — чувственность, выполняющая свой конечный закон. Но именно поэтому-то эротика и представляет собою важнейшую часть чувственности, а в своем сознательном проявлении в то же время и ее наивысшую и даже наиблагороднейшую форму. Однако наряду с этим она имеет и оборотную сторону. Эротика пробуждает в человеке сильнейшие и наиболее продолжительные страсти, освобождает все великое и вечное, что живет и действует в человеке, но в то же время она дает волю и всему низменному, на что способна вырождающаяся человеческая психика. При выполнении искусством своей задачи — исчерпания всего без остатка содержания жизни, неизбежно то, что эротика не только стоит во главе угла всякого искусства, но и доминирует на всех его этапах; менее всего должно удивлять нас то обстоятельство, что те высшие вершины, на которые поднималось до сих пор искусство, окрашены в то же время наиболее яркими и сочными красками эротики. Так как, однако, помимо этого искусство следует постоянно влечению возвеличивать все то, что оно изображает, то из этой тенденции в конечном счете само собой следует воспроизведение эротики во всех ее проявлениях.
Эта внутренняя необходимость художественного воспроизведения эротики чувствовалась, несомненно, всегда и давно уже была всеми признана, ибо даже самый закоренелый филистер повторяет в настоящее время, правда, не без внутреннего содрогания, ту прописную истину, что без чувственности вообще не могло бы быть искусства. Но этим отнюдь еще не сказано, конечно, что он исходит при этом из тех же предпосылок, на которые опираемся мы в своем изложении.
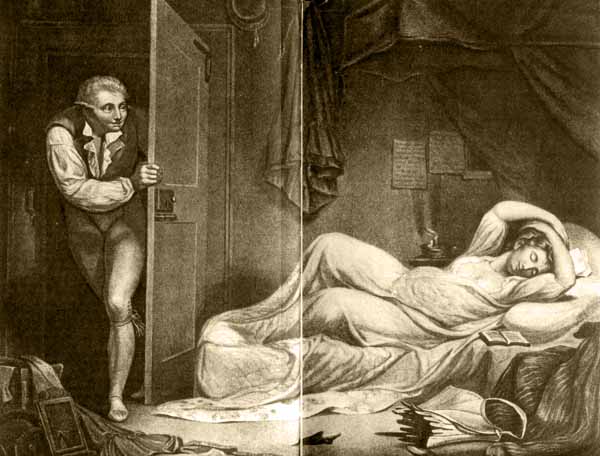
Дж. Норткот. Распутная дочь. Морализирующая гравюра. 1796.
Не менее важную роль играет и внешняя необходимость, которая побуждает творящего к художественному воспроизведению эротических мотивов. Если внутренняя необходимость относится ко всему художественному творчеству, не исключая литературы и музыки, то внешняя представляет собой закон, которому подчиняются только так называемые изобразительные или объективные искусства, скульптура и живопись. Этот закон покоится на том сознании, что в мире явлений нет более чудесного феномена, как органическая материя в стадии своего эротического напряжения. Это относится к ней во всем ее целом. Растение цветет и благоухает, раскрывает свои лепестки и жадно стремится навстречу оплодотворению — это бессознательное эротическое опьянение. Оперение птиц никогда не сверкает так ярко и красочно, их пение никогда не бывает таким сладостным и упоительным, как именно в брачный период. Нет ничего более могущественного, чем большое, сильное животное в период течки, нет более грандиозного зрелища, чем его любовное бешенство. Достаточно взглянуть на жеребца, когда он от возбуждения раздувает ноздри, бьет хвостом и до крайних пределов напрягает каждый свой мускул; достаточно взглянуть на оленя, на это воплощение силы и красоты. В своем роде не менее красиво проявляется любовное влечение и в низших слоях царства животных. Между тем то, что относится к растительному и животному миру, то в неизмеримо большей степени относится к человеку, так как у него в эту стадию высшего напряжения и развития достигают также и все те духовные и психические элементы, которые отличают его от животного. Любовь украшает в высшем смысле этого слова каждого человека. Прекрасным в своем высшем достижении является прежде всего осуществление закона жизни. Нет ничего более прекрасного, как сплетение двух человеческих тел различного пола, в полном расцвете развития и в экстазе сексуального возбуждения. Энергия, сила, величие, гармония — все торжествует здесь. Поэтому-то отсюда проистекают и прекраснейшие художественные линии; ибо нет более величественного, более художественно прекрасного движения. А то, что это именно так, то, что человек в стадии эротического напряжения представляет собой прекраснейший феномен мира явлений, — это является также логической необходимостью, ибо в эти моменты своего существования человек — совершеннейшее создание органического развития — возносится на высочайшие вершины своего естественного назначения. На высшей точке творческого утверждения жизни человек достигает границ истинно великого. Между тем, согласно вечной тенденции искусства подыматься на недосягаемые выси, к этим границам стремится каждый великий художник и каждая великая и значительная эпоха искусства.
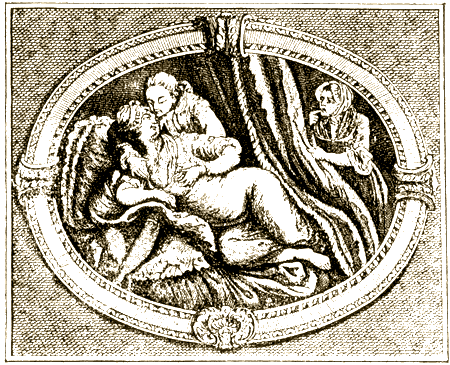
Галантная гравюра. XVIII в.
Если логическим выводом из нашего первого положения, что искусство есть чувственность, является то, что в каждом периоде расцвета и подъема искусства высшей и доминирующей проблемой творчества большинства художников служит нагота, то из второго положения с такой же необходимостью следует, что в те периоды, когда мораль эпохи давала возможность искусству развертываться во всю его ширь, воспроизведение непосредственных эротических мотивов становилось одной из серьезнейших художественных проблем. Такими эпохами был прежде всего античный мир, а в новое время Ренессанс. Однако и в другие эпохи это стремление не могло совершенно подавляться, хотя моральные законы и скрывали повсюду половую жизнь целомудренным покровом стыда и замалчивание ее провозглашали высшим законом общественной нравственности. Тем не менее искусство следовало неизменно своей тенденции, хотя ему и приходилось при этом избегать непосредственного изображения эротики, но с тем большим упорством оно обходными путями стремилось неуклонно к раз навсегда поставленной цели. Если в прежние времена для этого пользовались символами, — вспомним хотя бы использование греческих мифов и главным образом мифов о Юпитере со всеми его метаморфозами, — то в настоящее время искусство стремится к цели совершенно открыто: и на этом пути им создан целый ряд истинных шедевров. Для доказательства достаточно назвать хотя бы имя Родена. Естественно, что при таком непосредственном стремлении приходилось ограничиваться одним только движением, одной только резкой линией.
Само собой разумеется, что искусство никогда не соглашалось добровольно с ограничением своей свободы и делало уступки исключительно в целях широкой публичности. Все без исключения выдающиеся художественные натуры давали волю переизбытку своих могучих сил в непосредственном воспроизведении эротических мотивов, в интимном изображении полового акта, хотя очень немногие из их произведений достигли известности и славы, так как в огромном большинстве случаев никогда не выходили на свет публичности. Конечно, не все художники занимались этой проблемой из чисто художественного воодушевления, — наоборот, большинство посвящало ей свои силы потому, что им нравилась, их радовала сама тема, а также и потому, что их пленяла мысль посмеяться над общепризнанной моралью, хотя бы в самом интимном и тесном кругу. Однако здесь было бы, пожалуй, уместно сделать одно необходимое замечание: человек может быть весь проникнут чувственностью, может с упоением и восторгом отдаваться блаженству сладострастия и в то же время, будучи измеряем масштабом серьезной нравственности, может быть самой положительной личностью. Одно не исключает другого, — наоборот, обе эти стороны — необходимые предпосылки цельной и крупной личности. Правда, здесь тотчас же нужно заметить, что один интерес к эротике не служит еще показателем выдающейся личности; однако столь же несомненно и то, что великие личности никогда еще не выходили из рядов тех, «кто не занимается такого рода вещами». Хотя бы уж по одной той причине, что величия без смелости не существует.

После купания. Анонимная гравюра. Ок. 1845.
* * *
Если искусство есть не что иное, как воспроизведенная чувственность, то оно должно и на зрителя оказывать в общем чувственное воздействие. В тех же случаях, когда речь идет о воспроизведении чисто эротических мотивов, оно должно действовать возбуждающе в сексуальном смысле. Ибо, как известно, особенностью чувственности, неразрывно связанной с нею, является то, что она, несомненно, заразительна, когда действует на нормального человека и когда действие ее соответствует его культурному уровню. Мы подчеркиваем это обстоятельство. Мы утверждаем: чувственное воздействие художественно воспроизведенных эротических мотивов на зрителя не подлежит никакому сомнению. И далее: чем интенсивнее это воздействие, тем крупнее и значительнее художественная ценность. Это тоже должно быть признано внутренней и безусловной необходимостью.
На чувственно возбуждающее действие художественно воспроизведенного эротического мотива необходимо обратить особое внимание, так как ханжеская нравственность — та самая, которая без всяких рассуждений именует «грехом» чувственность и, главное, возбуждение чувственности, — всегда и повсюду порождала зловещее смешение понятий. Неограниченное господство этой морали в общественной жизни привело в конце концов к такому ханжеству, что в настоящее время даже многие самые умные люди исповедуют догму, которая представляет собою вынужденную уступку всемогущей морали. Эта уступка, принявшая с течением времени характер непоколебимого символа веры, состоит в том, что человек хотя и допускает чувственное воздействие образного воспроизведения, однако не признает его выдающимися произведениями чистого искусства. Такие произведения якобы не действуют в чувственном смысле, даже если они и трактуют чисто эротические мотивы: отсутствие чувственно возбуждающего действия их на зрителя объясняется высокохудожественной формой воспроизведения.
Напротив, мы утверждаем, что такое разграничение и вообще такая логика бессмысленны, ибо внутренняя логика искусства говорит как раз обратное. Стараясь исчерпать интересующую его проблему во всей ее глубине, художник стремится достичь жизненной правды, абсолютной правдивости. Правдивость же никогда не ограничивается лишь внешними очертаниями явления, — она всегда включает в себя прежде всего содержание, весь комплекс духовных, физических и психических элементов, скрывающихся в данном явлении. Форма никогда не существует ради самой себя, а всегда лишь ради содержания. Художественное впечатление должно пластически реконструировать в душе зрителя сущность, душу явления. И зритель должен сам пережить, прочувствовать изображенное — вот чего требует на каждом шагу искусство. Эта способность заставить зрителя пережить произведение искусства считается высшим дарованием художника; чем сильнее суггестивная[5] сила его творений, тем выше слава его. Иными словами, мы рассуждаем вполне логично и признаем это действительно сущностью искусства, требуем этого от него и пользуемся этим как критерием, но лишь до тех пор, пока речь идет о самых индифферентных темах искусства, о портретах, воспроизведениях явлений природы и пр. Как только, однако, перед нами художественное воспроизведение эротических мотивов, мы тотчас же меняем фронт, и логика разом куда-то исчезает. Мы видим тогда перед собой только форму, забываем неожиданно, что для самого низменного эротического мотива имеется столь же высокохудожественный способ воспроизведения, как и для всякого идеала. По отношению к эротике в искусстве зритель хочет почему-то стать вдруг совершенно объективным и бесстрастным, хочет перестать быть существом, в котором столь же громко требует подчинения вечный закон жизни. Такова уступка лицемерной морали. То, что справедливо по отношению к портрету или к какому-нибудь индифферентному мотиву, то, что здесь играет роль непреложного закона, относится в полной мере и к художественному воплощению эротики. Подобно тому как при созерцании выдающегося пейзажа зритель переживает и чувствует все величие, например, дремучего густого леса, так в силу вышеочерченного принципа при созерцании художественного воплощения эротического мотива он должен чувствовать его сладострастную, душную атмосферу.
Безусловно отрицательный характер носят и те доказательства, которые приводятся защитниками взгляда, будто великие произведения искусства не оказывают эротического действия. Они постоянно ссылаются на известные произведения искусства античного мира и Ренессанса. При этом они прибегают к весьма тривиальному трюку: ударяют себя патетически в грудь и задают вопрос: «Где тот развратник, которому при виде той или другой классической Венеры, той или другой классической любовной сцены могут прийти в голову чувственные мысли, который испытает человеческое, слишком человеческое чувство и не будет преисполнен только одним эстетическим воодушевлением?» Конечно, такого развратника никогда не оказывается. Это, однако, ровно ничего не доказывает, да и не могло бы доказывать даже в том случае, если бы каждый вполне честно и искренне стал утверждать, что при созерцании этих произведений искусства ему не приходят в голову никакие чувственные мысли. Это доказательство содержит в себе огромный пробел. Оно не доказывает ничего положительного, — в лучшем случае из него явствует нечто половинчатое. Эта половинчатость сводится к тому, что такие произведения искусства не оказывают чувственного действия на современных зрителей. Но это отнюдь еще не доказывает, что они оставляли зрителя бесстрастным в чувственном отношении и в то время, когда они были созданы. А ведь это, несомненно, самое существенное и главное.
Подходя к разрешению этого вопроса, не следует никогда упускать из виду, что, как мы указывали уже выше, каждая эпоха, а также и каждая фаза развития отдельного индивидуума обладает специфическим чувственным ощущением, которому соответствуют вполне определенные средства раздражения. Отсюда с очевидностью следует, что каждая эпоха, каждый класс и каждый возраст реагируют по-своему. Разнообразие чувственного ощущения отдельных исторических эпох доказывается яснее всего развитием чисто порнографического элемента в литературе и искусстве. История порнографии показывает — это будет иллюстрировано целым рядом документов во второй части этой книги, — что книги и изображения, возбуждавшие в XVII столетии до крайних пределов похотливое чувство, совершенно не волновали кровь людей не только XIX, но даже и XVIII века. К тому же выводу мы приходим, как известно, и при сравнении средств раздражения, на которые реагируют юноши, зрелые мужчины и старики. Не менее существенные различия обнаруживает параллель между отдельными классами, между крестьянином, представителем мелкой буржуазии и высокоразвитым капиталистом. То, что одного из них повергает в своего рода опьянение, оставляет совершенно равнодушным другого, так что он не понимает даже ни смысла, ни цели раздражения; от его сознания ускользает как раз самое «лучшее», так как наиболее интенсивная форма проявления эротической чувственности заключается далеко не всегда в общепонятной конкретизации. Грубый, откровенный и примитивный характер носят в начале исторического развития средства эротического раздражения; постепенно они становятся все более и более утонченными и их усложнение совершается соответственно с переходом под влиянием культуры ко все более утонченным формам наслаждения. Вместе с этим утончением и осложнением грубый элемент утрачивает прежнее эротическое действие. При рассмотрении этого развития средств эротического раздражения мы сталкиваемся с тем фактом, что оно простирается решительно на все области, иначе говоря, не только на жизнь в ее действительности, но прежде всего на ее отражение в искусстве. Отсюда следует, однако, что способ изображения Венеры или сцен любви, свойственный античному миру или Ренессансу, не только не оказывает эротического воздействия, но и вообще не может оказывать такового. Здесь нужно, правда, сделать небольшую оговорку: сказанное безусловно относится только к высокоразвитому культурному человеку зрелого возраста, — низшие классы и более ранние возрасты испытывают совершенно другое при созерцании образцов классического искусства, — на них эти произведения действуют еще зачастую и теперь эротически.
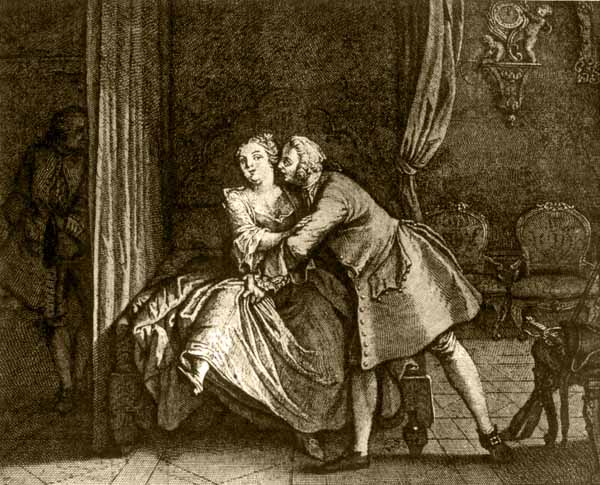
Галантная французская гравюра с картины Леклерка.
Такое же чувственное ощущение при созерцании этих произведений искусства испытывали и современники, и притом современники во всей своей совокупности. Это может быть без труда доказано на целом ряде весьма надежных документов. Относительно древности достаточно сослаться на прекрасный миф о Пигмалионе. Миф этот в конечном счете есть не что иное, как остроумное и тонкое возвеличение того чувственного действия, которое оказывает произведение искусства на зрителя. Относительно мифа о Пигмалионе нужно заметить, что он первоначально возник вовсе не из творческой фантазии поэта, а что в нем лишь подверглась идеологизации действительность, постоянно наблюдаемое безграничное восхищение, выпадающее на долю некоторых великих произведений искусства. В классической литературе можно найти целый ряд указаний на то, что некоторые изображения Афродиты, как, например, знаменитая Венера (Афродита) Книдская Праксителя, нередко вызывали у зрителей-современников положительно эротическую влюбленность.
Аналогичное действие можно констатировать и относительно произведений Ренессанса. И притом даже относительно таких, темой которой не является земная любовь. Рихард Мутер сообщает где-то, что на оборотной стороне Мадонны Кастельфранко Джорджоне имеется надпись, сделанная рукой современника: «Дорогая Цецилия, приди, поспеши, тебя ждет твой Джорджио». Надпись эта представляется нам чрезвычайно показательной, безразлично, принадлежит ли она простому зрителю или создателю картины. Если она исходит от зрителя, то наглядно показывает, какое сильное эротическое чувство вызывали у зрителей даже изображения Мадонны; если же она принадлежит художнику, то еще больше подтверждает это воздействие, так как дает нам возможность судить, какие чувства владели художником при писании Мадонны. Мадонна представлялась его воображению далеко не как бестелесное божество.
Другим доказательством чувственно-эротического воздействия изображений нагого женского тела является следующее. В старой мюнхенской Пинакотеке имеются два изображения Лукреции, оба в одинаковой позе и, главное, оба одного и того же формата. Одно принадлежит кисти Альбрехта Дюрера, другое — кисти Луки Кранаха. В то время как Лукреция Дюрера за исключением узкой повязки, накинутой на бедра, совершенно нага, Лукреция Кранаха совершенно одета, так что обнаженными остаются только ноги пониже колен и небольшая верхняя часть туловища. Проследив историю обеих этих картин, мы сделаем одно чрезвычайно интересное открытие: обе картины находились одно время во владении баварских курфюрстов и одна из них служила прикрытием другой. Лукреция Дюрера была заключена в ящик, крышкой которого служила Лукреция Кранаха. Это доказывает, конечно, что изображение нагого тела оказывало в то время чувственно-возбуждающее действие, поэтому-то обнаженную Лукрецию Дюрера скрывали и заменяли ее одетой Лукрецией Кранаха. Если мы примем при этом во внимание, что Лукреция Дюрера, по нашим современным понятиям, написана в достаточной мере монотонно и что это тем не менее не препятствовало тому, что современники испытывали при виде ее сексуальное возбуждение, то отсюда с необходимостью следует, что в то время обыкновенная нагота в художественном воплощении считалась и воспринималась, несомненно, как средство чувственного возбуждения. Так, на наш взгляд, действительно и обстояло дело. В заключение упомянем еще, что история Лукреции Дюрера, помимо всего другого, служит еще доказательством изменения средств чувственно-эротического возбуждения. В настоящее время более активной в смысле эротического возбуждения мы, наверное, сочли бы полуодетую Лукрецию Кранаха.
Итак, утверждение, будто великое и истинное искусство ни при каких обстоятельствах не производит чувственно возбуждающего воздействия, оказывается при ближайшем рассмотрении совершенно неосновательным. Поэтому подойдем к интересующей нас проблеме с другой стороны; наиболее целесообразно исходить из вопроса: какого рода чувственность способствует общему культурному развитию и потому имеет право на существование и какого рода чувственность идет вразрез с ним и потому должна быть признана явлением отрицательным? Тем самым, разумеется, сразу намечается круг тех лиц, с которыми вообще можно обсуждать этот вопрос. Обсуждать его можно, конечно, только с теми, которые стоят на той точке зрения, что чувственность сама по себе представляет нечто безусловно нормальное и потому здоровое. Напротив того, все наши рассуждения совершенно не относятся к тем, которые в любом виде чувственности видят нечто греховное, считают ее корнем всего зла, а в возбуждении чувственности усматривают чуть ли не тягчайшее из всех преступлений.
Для тех, в чьих глазах чувственность не является корнем всякого зла, а, наоборот, очень часто источником многого великого и значительного, для тех решающую роль всегда будет играть тенденция, которой проникнут тот или иной вид чувственности. И поэтому в ответ на вопрос, какой род чувственности имеет право на существование, мы услышим от них: право на существование имеют все те формы проявления чувственности, в которых обнаруживается творческий момент жизненного закона, ибо именно они влекут человека вперед и ввысь по пути его развития. Не имеют право на существование и отрицательный характер носят, напротив того, все те формы, которые низводят это наивысшее влечение до степени простого средства утонченного сластолюбия.
Отсюда вытекает также и ответ на вопрос, при каких условиях художественное воспроизведение эротических мотивов имеет право на существование. Ответ этот гласит: изображение эротического может быть признано правомерным, притом даже в самых смелых формах, в том случае, когда оно настолько переработано в художественном отношении, что низменно чувственное совершенно растворяется и исчезает и в изображении воплощается и торжествует лишь великий, незыблемый закон жизни, сила созидания. При этих условиях можно говорить даже о вечных правах на изображение эротического. Несомненно, были эпохи, не признававшие этого права вообще, и другие, которые хотя и признавали его, однако обнаруживали мнения, энергично оспаривавшие это право. Но не следует заблуждаться: ни эпохи эти, ни мнения не выражали какой-либо высшей нравственности, — во всех них без исключения обнаруживалась косность и творческое бессилие, которые злобно и лицемерно старались отомстить силе и творчеству. Ибо бессильный всегда видит в сильном обличителя и потому ненавидит его.

Сладострастие. Французская гравюра с картины Рено. 1810.
Став на эту точку зрения, мы никогда не дадим себя ввести в заблуждение тем фактом, что несведущий в эстетическом отношении и нечуткий человек видит в искусстве всегда лишь содержание, а никогда не форму, почему, например, для некультурного крестьянина сама Афродита Праксителя представляется только «голой бабой». Отсюда вовсе не следует делать вывод о необходимости сокрытия художественной наготы, — наоборот, необходима усиленная культурная деятельность, которая была бы направлена на то, чтобы всякого имеющего человеческий облик поднять несколько, чтобы он сумел понять то величие, которого достигает человек как завершение органического развития.
* * *
Жизненный закон искусства вечен и неизменен. Поэтому в истории культурного человечества нет ни одной эпохи, в искусстве которой отсутствовал бы эротический элемент; даже больше того, нет ни одной эпохи, в которой он не играл бы чрезвычайно крупной роли. На этом основании можно в известном смысле говорить о постоянном комплексе эротических мотивов. Несомненно, конечно, что эротика представляет собой неистощимую область. Однако число основных мотивов относительно так ограничено, что большинство их получило художественное воплощение еще в античном искусстве. Дальнейшее развитие, как ни велико оно в количественном отношении, сводится почти исключительно к варьированию и комбинированию основных мотивов. И вот именно то направление, в котором варьируется в данную эпоху какой-либо основной мотив, а также и то, какие именно мотивы охотнее всего избираются, и служит важнейшим моментом, из которого должно исходить наше историческое суждение. Ибо уже при поверхностном обозрении музеев и коллекций гравюр нам приходит в голову мысль, что здесь, несомненно, имеются весьма глубокие и существенные различия. Мы видим, как всюду все в новых и новых формах находит художественное воплощение эротика, но если в одну эпоху она производит внушающее уважение, увлекательное и прекрасное впечатление, то, наоборот, в другую действует угнетающе, отталкивающе и вызывает только отвращение; так как, однако, как раз это и служит решающим моментом для нашего суждения, то мы и должны прежде всего установить, какие факторы обусловливают наличие тех или иных форм.
Ответ на этот вопрос гласит: так как никогда не бывает искусства, совершенно оторванного от исторических условий своего времени, а всегда есть лишь классовое искусство, то эти формы должны в точности соответствовать ходу преобладающего в данный момент классового движения. Таков определяющий фактор. Эротический элемент в искусстве победоносного классового движения должен носить героический характер; по мере дальнейшего уже более спокойного развития его на сцену выступает несколько более игривый оттенок; далее эротический момент становится спекулятивной самоцелью и т. д.

Пан и нимфа. Немецкая иллюстрация «Мифологическому кабинету». Ок. 1845.
Как ни хаотична на первый взгляд каждая художественная эпоха, хаос этот на самом деле лишь мнимый; мы не можем разобраться в нем лишь до тех пор, пока не знаем основных законов искусства. С того же момента, как законы эти раскрываются перед нами, мы всюду тотчас же начинаем различать характерные типичные линии. Случайное предстает перед нами в качестве естественно необходимого, и внутреннее единство бросается в глаза повсюду.
Так как такое единообразие культуры, свойственное каждой отдельной эпохе, есть и в общем комплексе культурного развития, то определенной фазе общественного бытия всегда соответствуют определенные тенденции в художественном «как и что». Например, в периоды победоносного наступления нового времени всегда господствует смелость в изображении эротического, дерзкое, беззастенчивое опрокидывание всех унаследованных традиций; в такие периоды эротический элемент всегда носит некоторый героический оттенок. Он предстает перед нами в образе всевластной естественной силы, в качестве стихийного закона жизни, которому подчинено все и вся. В такие периоды художник ни одного мгновения не колеблется перед тем, чтобы воспроизвести самые интимные мотивы как мотивы движения. Чувственный экстаз он передает с тою же откровенностью, как и самый невинный порыв. Укажем хотя бы на гравюру Рембрандта «Французская постель». Такая внутренняя естественность — одна из главнейших причин, почему даже самые смелые произведения таких периодов нам только импонируют.
Столь же единообразно и дальнейшее развитие, по крайней мере в своей принципиальной тенденции. В конце, на исходе господства определенного класса, мы постоянно наблюдаем наличие более возвышенных мотивов в искусстве. Однако в эти фазы развития сила и величие уже исчезают, и поэтому произведения эротического искусства, возникающие в эти эпохи, хотя и вызывают нередко наиглубочайшее преклонение перед тонкостью художественного выполнения, но зато совершенно не способны импонировать в лучшем смысле этого слова и вселять в нас благоговейное чувство. Вспомним хотя бы Буше или Бердслея.
* * *
Прежде чем перейти к историческому рассмотрению различных форм эротического элемента в серьезном искусстве и к выяснению роли и значения этого элемента в общей цепи развития искусства, мы должны сделать несколько предварительных замечаний относительно объема и характера имеющегося материала.
Доказать исторически жизненный закон искусства, как таковой, не представляет никаких трудностей; ибо для этой цели богатейший материал можно найти в любой картинной галерее, и наблюдателю остается только из избытка материала избрать наиболее характерное и существенное. То, что мы в своем изложении прежде всего должны опираться на крупных мастеров и на общепризнанные произведения искусства, едва ли требует дальнейших пояснений. Другое дело, однако, ссылка на художественные произведения чисто эротического характера. Здесь стоящая перед нами задача гораздо более сложна уже хотя бы потому, что имеющийся материал несравненно менее обилен и прежде всего малодоступен. Мы никогда не должны упускать из виду того обстоятельства, что лицемерная мораль и ханжество хотя и царили неограниченно во всех без исключения духовных областях наследия наших предков, но нигде власть их не проявлялась с такой фанатической силой, как именно в области художественного воплощения эротики. Каждое эротическое изображение, извлекавшееся из старых запыленных папок или шкафов, подвергалось опасности тотчас же при своем появлении на свет быть уничтоженным или спрятанным окончательно под спуд. Обладатели таких произведений полагали, что они их только компрометируют; наследники опасались за свое доброе имя и за память по усопшим; особенно считались с предрассудками публичные собрания и категорически отклоняли всякое предложение приобрести такого рода произведения. Если же в их шкафах и находились неожиданно вещи, чересчур противоречившие господствующей общественной нравственности, то в большинстве случаев они бережно прятались и скрывались от взоров зрителей. В частных и общественных художественных собраниях и галереях то и дело производилась моральная «чистка». Вполне понятным результатом такого отношения и было то, что лучшие и наиболее важные для нас произведения безвозвратно погибли.

Энгр. Большая одалиска.
Чтобы дать приблизительное представление об этом вандализме, приведем несколько характерных примеров того, как хозяйничали моральные контролеры. Из шестнадцати известных эротических картин, которые в 1520 году Джулио Романо написал по заказу Льва X, до нас не дошло ни одной; столь же безвозвратно утеряны и гравюры, сделанные с них Раймонди. В марбургском архиве сохраняется, по-видимому, один экземпляр этих гравюр, но он и теперь еще недоступен даже для чиновников музея. Дворец Фонтенбло был полон при Медичи сверху донизу всевозможными эротическими картинами, скульптурами, фресками, барельефами и т. п.; эротические изображения были на мебели, на досках столов, на посуде, на занавесях и даже на дверных замках и садовой решетке. Но тщетно будете вы искать сейчас каких-либо мало-мальски заметных следов этой эротической оргии, которая неистовствовала там, начиная с глубокого подвала вплоть до верхушки крыши. Мы знаем только несколько эскизов и набросков, которые носят специальное название «искусства Фонтенбло» и характеризуются своеобразным эротическим жанром. Уничтожению подверглась далее знаменитая серия эротических картин, которые написал Буше по приказанию Людовика XV для будуара маркизы Помпадур: развитие любовной интриги с различными пикантными приключениями, нежными прелюдиями, интимными дуэтами, бурными часами упоения и т. п. Эта интереснейшая серия картин погибла после того, как выдержала все бури революции, наполеоновских войн, словом, пережила почти все XIX столетие. Последний владелец этих картин, один английский коллекционер, продал их в Америку; но таможенные власти воспротивились пропуску столь «гнусных» вещей, и посылка была отправлена обратно в Англию. Но и моральный Альбион не нашел мужества пропустить нечто подобное в свои пределы, и картины были конфискованы; в результате их постигла та же участь, которая выпадает на долю всех конфискуемых «товаров»: они были сожжены. Кое-какие следы их до нас все-таки дошли: несколько фотографических снимков, к счастью, попавших в руки коллекционеров. О некотором, хотя и весьма слабом, уважении к искусству, — быть может, вернее, к его денежной стоимости — свидетельствует уничтожение не всего эротического произведения, а только его наиболее «греховной» части. Классическим примером этого служит дивная картина Паоло Веронезе «Влюбленная парочка», которая в настоящее время сохраняется в мюнхенской Пинакотеке. Эта картина в ее нынешнем виде представляет собою только часть большой картины; отрезана нижняя «греховная» половина, изображавшая нежные любовные игры пылкого фавна и влюбленной нимфы. К счастью, в данном случае в виде исключения, на основании сохранившейся копии картины, можно установить, какой вид она имела первоначально. Но, повторяем, это лишь счастливое исключение, — в большинстве же случаев приходится с грустью констатировать, что какая-то часть срезана, — что же именно было изображено на ней, об этом приходится уже только догадываться.
Этими воплями можно было бы заполнить множество страниц, — и, что особенно характерно, большинство случаев позорного вандализма относится к настоящему времени. Неудивительно поэтому, что материал для суждения о том, до какой смелости доходили отдельные эпохи в художественном воплощении чисто эротических мотивов, отличается чрезвычайной скудостью.
Это обстоятельство не должно упускаться из виду при исследовании места, занимаемого эротикой в серьезном искусстве; полное отсутствие характерных образцов в публичных собраниях не должно побуждать нас к ошибочным выводам, — мы должны использовать главным образом частные коллекции. Если бы некоторым преувеличением было утверждать, что благодаря частным коллекциям мы имеем вполне достаточное количество материала для обоснования чрезвычайно важных и ценных положений, то во всяком случае следует заметить, что то, что имеется сейчас в частных руках, может помочь нам все же составить общее представление.
Каким образом вышеохарактеризованные факторы обусловливают собою положение эротического элемента в искусстве, мы постараемся показать наглядно на примере некоторых важнейших этапов развития искусства: античной древности, Ренессанса и рококо.
Классическая древность. Классическая древность представляет для истории эротического искусства уже потому неисчерпаемую область, что тут вследствие различных обстоятельств все художественное творчество является непрерывной цепью доказательств, что искусство есть чувственность. Напомним хотя бы о том, что в древности, как известно, искусство и нагота были синонимами.

Казанова. Леда. Гравюра. 1790.
Далее, следует принять во внимание, что древность обнаруживает перед нами не только одну фазу развития, но решительно все его стороны. Ибо она вмещает культуру, обнаруживающую не один какой-либо этап исторического развития, а обнимавшую собой весь кругооборот исторического подъема и упадка: начало, возвышение и конец. Ввиду этого на примере одной только древности можно было бы установить все то, что мы хотим проследить в различных других эпохах развития искусства. Это было бы тем более легко, что едва ли можно найти еще одну эпоху, которая предоставила бы в наше распоряжение такое множество резко выраженных эротических произведений искусства. Именно древнее искусство неисчерпаемо по обилию этого материала. Где бы ни производились раскопки — в Египте, Греции или в Италии, — всюду заступ извлекает на свет все новые и новые эротические произведения. Вследствие этого мы находим в настоящее время чуть ли не в каждой частной коллекции целый ряд чрезвычайно интересных произведений, бронзы, терракоты, ваз, монет, камней, фресок, мрамора и т. п., в совокупности своей представляющих неисчерпаемое богатство смелых эротических мотивов и исключительной творческой силы. Эротические произведения древнего искусства можно найти и в общественных хранилищах. Некоторые содержат даже обширные специальные отделы для них, как, например, Национальный музей в Неаполе или Ватиканский музей в Риме.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
ДЛЯ ПОКЛОННИКА ИСКУССТВА
ДЛЯ ПОКЛОННИКА ИСКУССТВА Наконец, есть ряд любовных поз, отмеченных в древнем трактате «Дао секса», которыми, как кажется, пользуются только из любви к искусству. Предлагаем выполнить несколько из них перед объективом фотоаппарата с дистанционным управлением, с тем
6. ДЗЭН-ИСКУССТВА В ЖИЗНИ ГЕЙШИ
6. ДЗЭН-ИСКУССТВА В ЖИЗНИ ГЕЙШИ Япония – загадочная страна. Внутри нее существуют как бы две Японии. Одна – Япония современных технологий, другая – страна древних инстинктов. И обе они, удивляя весь западный мир, умудряются существовать одновременно.Известна одна
3.7. Средства литературы и искусства
3.7. Средства литературы и искусства Детерминация сексуальной культуры военнослужащих средствами литературы и искусства наиболее очевидна в силу опосредованной социализации сексуальной культуры. Не ставя перед собой задачи подробного анализа влияния всех
Глава 8 ДРЕВНЯЯ ТЕХНИКА «ЧУДЕСНОГО ИСКУССТВА»
Глава 8 ДРЕВНЯЯ ТЕХНИКА «ЧУДЕСНОГО ИСКУССТВА» Древние китайцы так писали о цвете нефрита: «Пять цветов у него: белый, как сливки; желтый, как каштаны, сваренные в кипящей воде; черный, как вакса или лак; красный, как гребень петуха или помада губ; но самым распространенным
Глава 10 СТУПЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ «ЧУДЕСНОГО ИСКУССТВА»
Глава 10 СТУПЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ «ЧУДЕСНОГО ИСКУССТВА» Многие женщины мечтают быть царицами секса. Многие женщины желают, чтобы в ложе любви возлюбленный получал несравненное удовольствие. Одна достойная женщина сказала: «Мир принадлежит тем, кто верит в красоту своих
Естественная история искусства
Естественная история искусства С середины прошлого столетия все науки претерпели поистине исполинское развитие. Но, быть может, именно поэтому перед взглядом историка культуры, направленным на внутреннюю сущность вещей и на познание закономерности всего сущего,